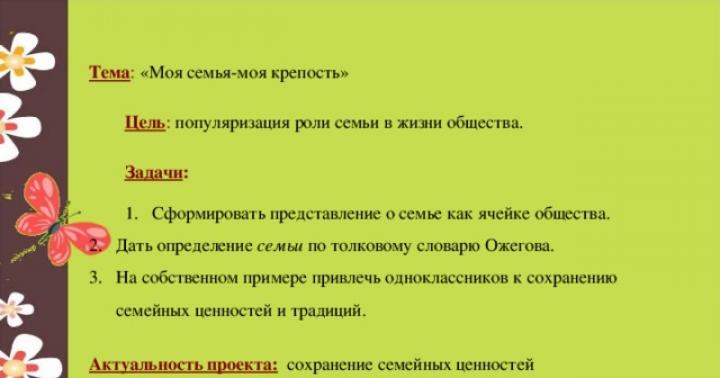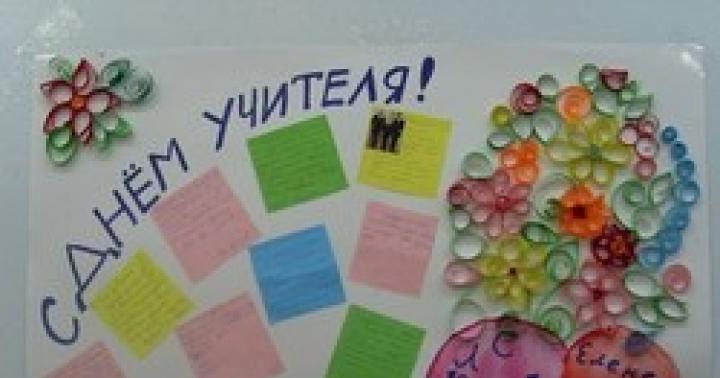Благодаря дневнику доктора Эроара мы можем представить себе жизнь ребенка в начале XVII века, его игры и этапы умственного и физического развития, которым соответствовала каждая из этих игр. Хотя речь идет о дофине Франции, будущем Людовике XIII. можно не бояться обобщений, так как при дворе Генриха IV королевские дети, законные и незаконные, получили то же воспитание, что и другие отпрыски дворянских семей, и еще не было абсолютного различия между королевским дворцом и замками знати. Итак, маленького Людовика XIII воспитывали точно так же, как и его товарищей,- ему давал уроки фехтования и верховой езды тот самый учитель, что преподавал военные искусства в Академии для дворянской молодежи, господин де Плювинель; на замечательных гравюрах к учебнику верховой езды де Плювинеля, сделанных Криспеном де По, можно видеть молодого короля во время занятий в манеже. Единственное отличие - будущий монарх никогда не ходил в коллеж, который посещала уже в те времена часть детей знати. Во второй половине XVII века ситуация меняется: культ королевской власти с самого детства отделил молодого принца от других смертных, пусть даже самых
знатных фамилий.
Людовик 13-дофин
Личный врач Людовика- Эроар оставил нам подробный дневник с детальным описанием каждого шага маленького дофина. В год и пять месяцев, отмечает Эроар, «он играет на скрипке и при этом подпевает себе». Раньше он довольствовался более подходящими для этого возраста игрушками: деревянная лошадка, вертушка, «он пытается играть с кубарем» (волчок, обхватываемый во время запуска веревкой.). В полтора года ему уже дают скрипку, тогда это еще не благородный инструмент, а «бренчалка», под которую пляшут на свадьбах и деревенских праздниках.
В том же возрасте он начинает играть в шары [игра, напоминающая крикет]. «Дофин во время игры в молот промахнулся и поранил господина де Лонгвиля». Это все равно, что в сегодняшней Англии полуторагодовалый младенец начал бы играть в гольф или крикет. В год и десять месяцев мы узнаем, что он «продолжает выбивать на барабане все марши»: каждая рота имела свой барабан и свой строевой шаг. Его начинают учить говорить: «Сперва его заставляют произносить отдельные слоги, чтобы потом было легче произносить целые слова».
Brooker Harry
The archers

Дофин начинает говорить; Эроар записывает в фонетической транскрипции его первые слова: «казу папе» - скажу папе; «наису» - нарисуй. Его часто порют: «...кричит, был выпорот (за то, что отказывался есть); успокаивается, потом снова кричит, потом ест». «С громкими криками ушел в комнату. Высечен. Секли долго».
Он любит общество солдат. «Его всегда любили солдаты». «Он возится с игрушечной пушкой». «Со своими солдатами он устраивает маленькую войну. Господин де Марсан надевает ему впервые в жизни высокий воротник. Он в восторге». «Они играют в войну». Мы узнаем также, что он ходит в зал для игры в мяч, будто взрослый, однако спит он еще в колыбели. 19 июля 1604-го ему два года девять месяцев, «чрезвычайно возбужден - ему ставят кровать, первый раз в жизни он будет спать не в колыбели». Он знает уже основы своей религии, на причастии ему показывают облатку.
В Сочельник 1604 года он в полной мере участвует в празднествах: ему три года, «перед праздничным ужином приносят рождественский пень, на котором он будет танцевать и петь в честь приближающегося Рождества». Ему дарят подарки: мяч и хитроумные безделушки из Италии, механического голубя, пред-
назначенного также и для королевы. Зимними вечерами, сидя в четырех стенах,- это в эпоху, когда большую часть времени проводили на открытом воздухе,- «он забавляется тем, что вырезает ножницами разные фигурки из бумаги». Музыка и танцы по-прежнему занимают большое место в его жизни.
A thrilling moment
John George Brown 1880

Он танцует гальярду, сарабанду и бурре *. Ему нравится петь и играть на мандоре (разновидность лютни) Буало. Он поет песню Робена: «Робен едет в Тур / Купить себе велюр, / Чтоб сшить себе колпак, / Я тоже хочу так...». «Потом он принялся петь себе колыбельную: „Кто хочет послушать песню? / Дочь короля Луи / Бурбон так полюбил, / Что даже обрюхатил"». Замечательная колыбельная для маленьких детей! Через несколько дней ему исполнится четыре, а он уже знает, как называются струны лютни, а лютня - инструмент знати: «Играет кончиком пальца на губе и говорит: как контрабаса» (Эроар использует фонетическую транскрипцию и записывает все, даже заикания, когда они имеют место)
Thomas Eakins
Baby at play

В три года пять месяцев «ему нравиться листать Библию с картинками, кормилица ему показывает буквы - он знает весь алфавит». Затем приходит очередь четверостиший Пибрака, правил поведения в обществе, морали. Дети должны знать это наизусть. Начиная с четырех лет ему преподают письмо: его учитель - причетник дворцовой часовни Дюмон. «Ему приносят письменный прибор в столовую. Дюмон собирается вести урок, он говорит: я кладу пример и ухожу к моим ученикам». (Примером называли образец, который надо было скопировать.) «Он переписывает пример, точно копируя каждую букву. Очень доволен». Он начинает знакомиться с латинскими словами. В шесть лет профессиональный каллиграф заменит клирика из часовни. «Он переписывает пример, Богран, королевский каллиграф, показывает ему, как надо писать».
Guilty
Seymour Joseph Guy

Все еще играет в куклы. «Ему нравится возиться с маленькими игрушками и с немецкой комнатой (миниатюрная мебель и сама комната, которую изготовляли мастера из Нюрнберга). Господин де Ломени дарит ему куклу, одетую как дворянин, с высоким воротником и надушенную. Он ее расчесывает и говорит: „Я женю его на кукле Мадам (сестры)"». Также ему очень нравится вырезать из бумаги. Ему рассказывают различные истории: «Он попросил кормилицу рассказать о куме Лисе, о злом богаче и о Лазаре». «На ночь ему рассказывают сказки Мелюзины. Я говорю ему, что это сказки, а не правдивые истории». (Неправда ли, современно?) Сказки предназначались тогда не только для детей - их по вечерам слушали и взрослые.
Одновременно с игрой в куклы этот четырех- пятилетний ребенок стреляет из лука и играет в карты, шахматы (в шесть лет) и предается таким взрослым развлечениям, как мяч с ракеткой и многочисленные салонные игры. В три года он играет в «что положишь ты в корзинку». Нужно было отвечать - дофинку, принцесенку и т. д., забава детей и молодых людей. С королевскими пажами, которые старше его,- в «нравится ли вам компания?», он ведет, и когда не знает, что нужно сделать или ответить, он спрашивает; а вот уже забавы пятнадцатилетних - например, «зажечь свечу с завязанными глазами». Если не с пажами, то с солдатами: «Он участвует в самых разных забавах - „мне нравится ваше место", „кто ударил", прятки, играет на волынке с солдатами». В шесть начинаются игры в профессии, ролевые и групповые игры, когда ведущий что-либо изображает и нужно догадаться, о чем идет речь. Так развлекаются и взрослые и подростки.
Soap bubbles
Ferdinand du Puigaudeau

Все меняется к семи годам - он больше не носит детской одежды, отныне его воспитание в руках мужчин. Он прощается с «маманга» - мадам де Монгла - и попадает в ведение господина де Субиза. Всеми силами его стараются отвратить от игр детей малого возраста, особенно от кукол: «Вам не следует более играть с такими игрушками (имеется в виду немецкая комната), как не следует играть в извозчика, вы уже большой, вы больше не ребенок». Он начинает всерьез обучаться верховой езде, стрельбе из различных видов оружия, его берут на охоту. Он играет в азартные игры: «Играет в кости, выигрывает бирюзовую безделушку». Создается впечатление, что этот возраст обозначает какой-то важный этап - именно семь лет в педагогической и воспитательной литературе XVII века упоминается как возраст, когда можно отдавать детей в школу или отпускать в самостоятельную жизнь.
Он участвует в торжествах по поводу сезонных и религиозных праздников - Рождество, Май, Иванов день... Мы видим, что в те времена нет еще четкой границы между детскими и взрослыми играми. Они были общими для тех и других.
Dolly"s portrait
Charles Courtney Curran
1909

В начале XVII века эта универсальность больше не распространяется на самых маленьких. Мы хорошо знаем их игры, так как начиная с XV века, то есть с появления путти в иконографии, художники все чаще обращаются к образу ребенка и сценам, изображающим играющих детей. Там можно узнать деревянную лошадку, ветряную вертушку, птицу, привязанную за лапку, и иногда. реже - куклу. Совершенно ясно, что все это предназначалось для самого младшего возраста. Однако невольно задаешься вопросом: было ли так всегда или когда-то все перечисленные здесь игрушки принадлежали миру взрослых? Некоторые из них появились благодаря детской потребности подражать взрослым, уменьшался масштаб до их размеров, как, например, деревянная лошадка в эпоху господства гужевого транспорта. Ветряная вертушка - эти вращающиеся на конце палочки крылья есть не что иное, как имитация более современного технического достижения, чем лошадиная тяга,- силу ветра начали использовать в Средние века. Тот же рефлекс, который заставляет сегодняшних детей играть с игрушечным грузовиком или автомобилем. Хотя, впрочем, ветряные мельницы давно исчезли из наших деревень, вертушки на палочках все еще продаются на ярмарках и на детских площадках общественных парков. Дети - это наиболее консервативная часть общества.
Spillar Jaroslav
Playtime

В XVII веке различают следующие типы игр: игры для взрослых и дворян, игры для детей и черни. Само по себе это разделение не ново и восходит к Средним векам. Но начиная с XII века оно затрагивает лишь некоторые игры,- очень специфические, которых насчитывается немного,- игры рыцарские. Прежде чем окончательно сформировалось представление о благородстве происхождения и о высшем сословии вообще, игры были общими для всех независимо от социального положения. Некоторые игры, в свою очередь, еще долго и после этого сохраняли всеобщий характер. Франциск I и Генрих II не считали зазорным поучаствовать в борьбе, Генрих II играл в мяч - в следующем веке это было уже недопустимо. Ришелье принимается прыгать в галерее, как Тристан при дворе короля Марка, Людовик XIV играет в мяч с ракеткой. Но и эти традиционные игры, в свою очередь, в XVIII веке перестают занимать людей высшего общества.
John George Brown
The little Joker

С XII века часть игр предназначалась только рыцарям и только взрослым. Наряду с борьбой, развлечением всеобщим, турнир и кольцо были занятиями рыцарей. Простолюдинам было запрещено присутствовать на турнирах, так же как и детям, пусть даже знатного происхождения,- впервые обычай запрещал детям, как и простолюдинам, принимать участие в коллективной игре. Но дети забавлялись тем, что подражали закрытым для них турнирам. В календаре молитвенника Гримани можно найти сцены с изображением пародийных детских турниров, дети сидят верхом на бочках, а среди играющих можно признать и будущего Карла Пятого.
С конца XVI века турниры больше не проводятся. Их заменяют другие спортивные игры дворян - при королевском дворе, в военных классах Академии, где молодые дворяне первойполовины XVII века обучаются фехтованию и верховой езде.Квинтана (то есть «чучело») - игра, в которой необходимо пешим или конным с ходу поразить копьем кусок дерева, заменивший живую мишень турниров и изображавший голову турка.«Кольцо» - на всем скаку сорвать кольцо. В книге Плювинеля,директора одной из таких академий, есть гравюра Криспенаде По, на которой изображен ребенок, будущий Людовик XIII,играющий в квинтану. Автор пишет, что эта игра обладает «яростью лобового столкновения (турнир) и изысканностью игры в кольцо».
Fritz Freund
The snowball fight

Другие примеры процесса, в результате которого прежде значительные игры переходят в разряд детских забав и развлечений на народных гуляниях. Обруч - в конце Средних веков в него играли не дети, точнее не только дети. На шпалере XVI века подростки забавляются обручем, один из них крутит обруч на палке. На рисунке на дереве работы Жана Леклерка конца XVI века уже достаточно взрослые ребята не только бросают обруч, но и прыгают через него как через скакалку: «Кто лучше,- гласит надпись,- прыгнет в обруч» . Обруч позволял выполнить иногда довольно сложные акробатические фигуры. С ним также танцевали довольно взрослые молодые люди, и это были традиционные танцы.
Начиная с конца XVII века в городах обруч уже перешел, по-видимому, в распоряжение детей. На гравюре Мериана изображен маленький мальчик, толкающий свой обруч точно так же, какэто делают повсюду дети в XIX и отчасти в XX веках. Общаяигрушка, из разряда танцевальных и акробатических аксессуаров,обруч становится достоянием детей все более младшего возраста - и так до полного своего исчезновения из повседневной практики. Справедливо утверждение: чтобы игрушка привлекала детское внимание, необходимо, чтобы она напоминала нечто, принадлежащее миру взрослых.
Theophile-Emmanuel Duverger
Hopscotch

Людовику XIII в детстве читали сказки Мелюзины, то есть волшебные сказки. Однако в то время сказки рассказывали и взрослым. «Мадам де Севинье,- отмечает Сторер, специально изучавшая «моду на волшебные сказки» в конце XVII века,- просто напичкана суевериями» . Она не смеет пошутить в ответ на шутку мадам Куланж по поводу некой Кювердон «из страха, что в отместку на ее лицо может прыгнуть жаба». Она намекает на историю трубадура Готье де Куэнси, которую она знала, как того требовала традиция.
Та же дама пишет 6 августа 1677 года: «Мадам де Куланж... любезно поделилась с нами сказками, что забавляют версальских дам; это называется „потчевать". Значит, потчевали нас сказкой о зеленом острове, где растет принцесса прекраснее света белого. Феи постоянно согревают ее своим дыханием и т. д. Сказка продолжалась целый час».
В то же время во второй половине XVII века люди начинают находить эти сказки слишком простенькими и, продолжая интересоваться ими, пытаются придать им новый оттенок - это похоже на попытку превратить в литературный жанр рассказы, принадлежащие устной и наивной народной традиции. Это проявляется в появлении изданий в принципе детских, как, например, сказки Шарля Перро, где еще слишком силен привкус старинных историй, и в появлении более серьезных публикаций, предназначенных не для детского чтения и не для народа.
Paul Charles Chocarne-Moreau
The spanking

В то время как сказка становится в конце XVII века новым серьезным литературным жанром письменной традиции (не важно, идет речь о философских сказках или о стилизованных под старинные), устная сказочная традиция забывается теми, кому мода адресует сказки, воспроизведенные на бумаге. Кольбер и мадам де Севинье слушали сказки, никому и не приходила в голову мысль подчеркнуть этот факт как нечто необычное - развлечение того же порядка, как сегодня чтение детективов. В 1771 году дело обстоит иначе - в приличном обществе среди взрослых случается, что старые полузабытые сказки устной традиции вызывают любопытство, свойственное археологам или этнологам,- прообраз современного интереса к фольклору и арго. Герцогиня де Шуазель пишет мадам Дюдефан, что Шуазелю «читают по его просьбе волшебные сказки - он их слушает дни напролет. Мы все к ним пристрастились и воспринимаем их как рассказы о настоящей истории наших дней»

Мяч с ракеткой был самой распространенной игрой; из всех спортивных игр именно к этой моралисты конца Средневековья относились более или менее терпимо и с наименьшим отвращением, в течение нескольких веков она оставалась самой популярной и была общей для всех сословий - и для королей, и для простонародья. Положение изменилось в конце XVII века. Отныне отмечается некая неприязнь у людей высшего сословия к игре в мяч с ракеткой. В Париже в 1657 году насчитывалось 114 залов для игры, в 1700 году, несмотря на значительный прирост населения, их число падает до десяти, в XIX веке их остается только два - один на улице Мазарини, другой на террасе Тюильри, где он действует и в 1900 году. Уже Людовик XIV, говорит историк Жюссеран, играл в мяч с ракеткой без энтузиазма. Однако если взрослые образованные люди оставляют эту игру, дети даже из хороших семей сохраняют ей верность в разнообразных формах игры с мячиком, воланом или в пелоту.
John Califano
Independence Day. 1900

Немало и других спортивных игр перешло в область детских и народных забав. Скажем, игра в шары, о котором мадам де Севинье говорит в письме своему зятю в 1685 году: «Я два раза сыграла в шары с игроками из Роше. Ах, мой дорогой граф, я все время думаю о Вас, с какой ловкостью вы били по мячу. Мне бы хотелось, чтобы и у вас в Гриньяне была такая же красивая площадка для игры». Все эти игры с мячиками, шариками, кеглями были когда-то забыты дворянством и буржуазией и полностью отошли к взрослым в деревнях и к детям на детских площадках.
Еще один вид забав, в прошлом всеобщих, а потом исключительно детских и народных,- переодевание. Романы XVI-XVIII веков полны историй с переодеваниями: мальчики переодеваются девочками, принцессы - пастушками и т. д. Эта литература отражает обычаи, проявлявшиеся во время праздников - сезонных или по случаю: праздника Королей, «жирного вторника», ноябрьских торжеств... Долгое время, выходя на улицу, люди, и особенно женщины, надевали маску (как теперь надевают перчатки). Им хотелось казаться красивее и загадочнее. Это относилось к дворянам. С XVIII века праздники с переодеванием становятся все более редкими и скромными в приличном обществе, карнавал становится чисто народным развлечением и даже пересекает океан, проникая в среду черных рабов Америки. Ну а дети теперь надевают маски и переодеваются для собственного удовольствия.
James Jacques Joseph Tissot
A little nimrod

Я оччччень сильно сократила текст.Полностью смотрите по ссылке
http://ec-dejavu.ru/p/Play.html
1.Введение
2. Обучение в Киевском государстве
3. Обучение на Руси в XIII -Х V вв.
4. Просвещение и школы в русском государстве XVI - XVII вв.
5. Заключение
6. Список литературы
Введение
В истории народа каждый ее период имеет характерные черты, которые делают его неповторимым и особенным. Историчны и специфичны не только события, влияющие на общество в целом, но также и события обыденной, семейной жизни. Печать времени лежит и на воспитании детей. Оно осуществлялось в разные периоды истории по-разному: в нем в те или иные годы наиболее или наименее значимыми были различные факторы: семья, церковь, школа, среда, государство. Но из века в век переходили и его "вечные" истины, приемы, средства.
Особенность рассматриваемого периода (X -XVII вв.) заключалась в том, что специально организованное воспитание в это время еще не доминировало. Школа еще только нарождалась. Чем и кем же определялись тогда особенности воспитания?
В самый ранний период, пожалуй, как никогда позже, духовный мир человека определялся той средой, в которой жили люди. Взаимоотношения окружающей природы и человека, его место в природном мире многое объясняют в психологии людей и помогают увидеть истоки некоторых черт характера даже современного человека.
В широкое понятие "среда" входили такие более конкретные реалии, как культура, мир народного искусства, особенно устного творчества (фольклор), игравшие в жизни человека исключительную роль, определявшие его нравственные и эстетические идеалы.
Семья - самая важная, самая значимая единица общества, в которой пример родителей, их взгляды на мир, активность самого ребенка служили школой жизни для маленького человека.
Мир большинства людей в старину замыкался местностью, в которой они жили и которую редко покидали. Поэтому так важны были взаимоотношения людей в деревне, они были питательной средой для духовной жизни. Характерной чертой жизни деревни была ее открытость миру. Все, что происходило тут значительного, было известно всем жителям. Постоянное общение соседей и родных, совместные работы, помощь друг другу, празд: ники - всем этим жила любая деревня.
Дети были свидетелями и активными участниками всех дел и событий. Они с самого раннего возраста вместе со взрослыми трудились, помогая домашним и соседям. Ни одна свадьба, ни одни похороны, ни один обряд, обычай не обходился без них. Часто они не только наблюдали, но и сами включались в действо наравне со взрослыми. У детей не было каких-то особых детских праздников, но они были в общей праздничной массе вместе со своими односельчанами и веселились все вместе - и старшее, и младшее поколение. Все это определенным образом влияло на развитие, воспитание детей, на самоопределение в мире. -
В те далекие времена, когда образованность почти не касалась огромного большинства народа, существовали все-таки свои понятия и убеждения о воспитании, и довольно сложные. Правда, эти понятия не формулировались, не обобщались, даже чаще всего не осознавались родителями и всеми теми, кто имел дело с детьми. Но они существовали, о чем можно судить как по произведениям народного творчества, так и по поступкам известных личностей, память о которых долго хранилась народом и которые как бы являли собою положительный результат воспитания.
ОБУЧЕНИЕ В КИЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Воспитание и обучение у древних восточных славян. С древнейших времен на территории Поднепровья жили племена, занимавшиеся земледелием и скотоводством (скифы, сарматы). Археологические раскопки свидетельствуют о значительном развитии материальной культуры у этих племен, о тесной связи племен, как населявших Поднепровье, так и живших на западе и востоке от него, от Карпат до Дона.
В VI-VII вв. н. э. уже имеются элементы оригинальной восточнославянской антской, или русской, культуры. С этого времени восточные славяне в письменных памятниках называются «антами», а один из сирийских писателей называет их «рос».
Восточное славянство прошло период родового бесклассового строя, сменившегося общинно-сельским строем, иначе говоря, господством сельской общины. В VIII-IX вв. родовой строй сохранился только в пережитках; древнейшие памятники русской письменности свидетельствуют о сложившемся уже к тому времени классовом обществе.
Города стали появляться на огромной территории восточных славя» только в классовом обществе в VII-XI вв.
Византийские источники, характеризуя антов, отмечают, что эта был трудолюбивый, талантливый и смелый народ, умевший отстаивать от врагов свои поселения и земли. Отдельные анты занимали выдающиеся военные посты в Византийской империи. Уже в этот ранний период завязались, а впоследствии окрепли политические, хозяйственные и культурные связи наших далеких предков - антов с Византией и Востоком.
В древнеславянском роде, а затем при распадении родового бесклассового общества и при начальном формировании классов воспитанию членов рода, а после - семьи, придавалось огромное значение; надо было воспитать сильного и умелого работника, хорошего пахаря, ловкого охотника, человека, отличающегося и военной доблестью, могущего, в случае нужды, с оружием в руках защищать родные поселения. Народная педагогика складывалась в недрах народных масс в результате длительного и настойчивого народного творчества. Так вырабатывались такие памятники народной педагогики, как пословицы, поговорки, сказания. В этих памятниках рассказывалось о героях, которым следует подражать, прибились те или иные моральные требования и нормы поведения.
Эта народная педагогика воспитывала у молодого поколения такие черты, как трудолюбие (что было необходимо для хозяйствования в те времена природных условиях), отвагу и стойкость в борьбе о было необходимо для борьбы с кочевниками и для охоты в дрему-чих лесах того времени). Эти черты, взращенные в течение многих столетий, помогли русскому народу стать народом-богатырем, успешно боровшимся с многочисленными сильными врагами. Народна» педагогика требовала уважения к человеку, честности, правдивости, скромности.
Семья, бывшая хозяйственной и в то же время воспитательной ячейкой, была построена на строгих патриархальных началах. Глава семьи вал указания членам семьи, которые обязаны были выполнять «урок» . е. то, что назначено для работы в определенный отрезок времени), процессе труда под руководством старших дети приучались к тому или другому виду хозяйственной деятельности.
Занятиями большинства восточных славян, было земледелие (что шло себе отражение в былинном образе Микулы Селяниновича), охота. IV в. возникло русское ремесло; оно интенсивно развивалось в последующие столетия и в VII-VIII вв. способствовало превращению большого поселка в город. Ремесло передавалось, как правило, от отца к сыну, к членам семьи. В семье таким образом развивалось ремесленное ученичество. Появились замечательные мастера, славившиеся далеко за пределами своей родины. Памятники поднепровского художественного ремесла VI-VII вв. свидетельствуют о выдающемся художественном чутье 1 уменье русских ремесленников. В X-XI вв. Киевская Русь заняла одно из первых мест среди стран Европы и Азии по выделке оружия, металнических и стеклянных украшений, зеркал и посуды. Ремесленные навыки передавались не только членам семьи, но и принятым в семью для обучения ученикам.
Воспитание и обучение царских детей
Детей в царской семье рождалось много, но далеко не все достигали зрелого возраста - слишком высока была в то время детская смертность. Из десяти отпрысков Михаила Федоровича четверо (три дочери и сын Василий) не дожили до трех лет; сын Иван (Г. Котошихин писал, что тот с раннего детства «велми был жесток», а посему его поспешили отравить) умер в пять лет. После его кончины началось очередное «ведовское» расследование, показавшее, что придворная золото-швея Дарья Ломакова «сыпала пепел на след царицы», отчего та почувствовала недомогание и печаль, а вскоре царевич Иван скончался. Взрослого возраста достигли только четверо: Ирина, Алексей, Анна (1630–1692) и Татьяна (1636–1706).
В семье Алексея Михайловича и Марии Ильиничны было 13 детей, из которых только восемь прожили относительно долгую жизнь: Евдокия (1650–1712), Марфа (1652–1707), Софья (1657–1704), Екатерина (1658–1718), Мария (1660–1723), Федор (1661–1682), Феодосия (1662–1713) и Иван (1666–1696). Их первенец Дмитрий (1648–1649) не дожил до года, родившаяся в 1655 году Анна умерла в 1659-м, Симеон (1665–1669) прожил четыре года, Евдокия (1669–1669) всего на два дня пережила мать, скончавшуюся через пять дней после родов от горячки, наследник Алексей (1654–1670) умер в 16 лет.
От второго брака Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной осталось двое детей - Петр (1672–1725) и Наталья (1673–1716); еще одна дочь Феодора (1674–1678) умерла ребенком.
Сначала главную роль в жизни царских детей играла кормилица, которая, как правило, до конца своих дней оставалась при дворе либо получала помесячное вознаграждение. Так, Анна Ивановна, кормилица Федора Алексеевича, всю оставшуюся жизнь имела прежний восьмирублевый годовой оклад жалованья и шесть «кормовых денег» (три копейки) на день. Для «досмотра» при царевичах до пятилетнего возраста были «мамка» и «нянька», а также целый штат прислужниц: «казначея», постельница и др. Свою «мамку» Ульяну Степановну Собакину Алексей Михайлович поминал добрым словом всю жизнь, иногда в письмах справлялся о ее здоровье, а в дальнейшем не раз помогал ее родственнице в память о ее заслугах.
До пятилетнего возраста царских детей только «тешили» игрушками, однако подбирались они таким образом, чтобы не только способствовать физическому и умственному развитию ребенка, но и приучать его к военному делу, к управлению людьми, к будущей жизни государя большой державы. Когда царевичу Алексею Михайловичу еще не было и года, отец прислал ему «потешного» (игрушечного) коня «немецкого дела», чтобы сын сызмальства осваивал навыки верховой езды.
По достижении пяти лет царевичей переселяли из царицыной половины в свои покои. Детям отводили во дворце по три-четыре комнаты, богато одевали, но первые годы они жили очень скрытно, вдали от глаз людских, в окружении «дядек» и учителей.
О воспитании и обучении Михаила Федоровича известно крайне мало. Поскольку к царствованию его не готовили, он, скорее всего, прошел обычную для того времени «школу»: изучение букв по азбуке, чтение по часослову, Псалтыри и Апостолу, писать учили отдельно. Дальше шло самообразование по желанию самого ученика, выбиравшего церковное пение или военное дело. Кое-какие умения, считавшиеся необходимыми для царственных особ, Михаилу Федоровичу пришлось осваивать уже во время пребывания на троне.
Совсем в ином положении оказался его сын Алексей, которого с рождения стали готовить в правители огромной страны. До пяти лет он рос в окружении не только мамок и нянек, но и «потешных» книжек и заграничных игрушек: деревянного коня, лат, музыкальных инструментов. Мастера Оружейной палаты также изготавливали самые разнообразные детские игрушки для царских детей, начиная с фигурок животных, барабанчиков, луков, стрел, седел и прочего и заканчивая шахматами. У трехлетнего царевича уже был целый штат музыкантов - 18 накрачеев (барабанщиков) и цимбалистов, для которых были заказаны особые кафтаны. Сам царевич тоже любил бить в барабан, о чем свидетельствует заказ, полученный придворным токарем в октябре 1633 года - выточить для малыша дубовые палочки.
Конечно, у мальчика с самого нежного возраста появилось разнообразное оружие. Помимо лука со стрелами в четыре года Алексей имел уже карабин и «двойной пистолет». Владению ими будущего государя обучали с раннего детства. Физическое развитие царевича тоже было организовано на должном уровне: летом мальчик много времени проводил на свежем воздухе, качаясь на качелях и играя в мяч, зимой катался на санках, а с девяти лет стал осваивать коньки.
Когда царевичу исполнилось пять лет, его начали обучать грамоте под руководством «дядьки» Бориса Ивановича Морозова, начавшего восхождение к власти с этой придворной должности - он сразу же перескочил из стольников в бояре. В помощники Морозову «для бережения и научения царевича» назначили Василия Ивановича Стрешнева, родственника царицы, пожаловав его в окольничие; однако тот не стал царевичу близким человеком, уступив первое место «чужому дяде». Морозов оставался наставником царя до конца своих дней. А пока Морозов наряжал своего ученика в немецкое платье - правда, ради потехи, но затем уже серьезно стал прибегать к европейским методам обучения. Царевич быстро освоил азбуку. В отличие от отца, в детстве которого использовались рукописные пособия по овладению грамотой, в распоряжении маленького Алексея Михайловича уже был печатный букварь типографа Василия Бурцева, изданный в Москве в 1634 году (по мнению некоторых исследователей, этот букварь был издан специально для обучения наследника престола). Полное его название - «Букварь языка славенска, сиречь начало учения детем, хотящим учитися чтению божественных писаний с молитвами и со изложением кратких вопросов о вере». В предисловии к изданию говорилось о древности «словенского» наречия, его равенстве с древними языками - еврейским, греческим и латынью. «Первоучебная малая книжица», писал автор букваря, должна была сослужить важную службу: «…малым детем в научение и познание божественнаго писания, и по всей бы своей велицей Русии разсеяти, аки благое семя в доброплодныя земли, яко да множится и ростет благочестие во всей его Русской земли». Бурцев вставил в свой букварь поэтическое обращение к читателям:
Ты же, благоразумное отроча, сему внимай,
И от нижния ступени на высшую ступай,
И неленостне и ненерадиве всегда учися
И дидаскала своего во всем наказания блюдися.
Призыв «блюстись наказания дидаскала», то есть учителя, был весьма кстати, ведь учителя имели право пороть нерадивых учеников розгами. Вряд ли царский «дядька» прибегал к подобной методе при обучении будущего монарха, но напоминать о розгах считалось нелишним не только в начале XVII века, но и в его конце (это сделал в своем знаменитом букваре Карион Истомин в 1696 году: гравюра с надписью «Училище» в его издании как раз изображала сцену наказания розгами).
Учителем грамоты числился дьяк Василий Сергеевич Прокофьев, а вторым учителем царского наследника - по письму - с весны 1635 года стал подьячий Посольского приказа Григорий Васильевич Львов, назначенный на эту ответственную должность за уникальный каллиграфический почерк, обширные познания в «цыфирной счетной мудрости» и других областях. Возможно, это он привил Алексею Михайловичу усердие к чистописанию, позднее воплотившееся в любовь к собственноручному письму. Царь уже в зрелом возрасте наказывал в одном из писем: «…чернила возьми у Григория у Львова, да и перья ему вели очинить». Видимо, и чернила, и перья у него были особенные, которые нравились царю и к которым он привык. За успехи в деле обучения наследника Львов в 1636 году был пожалован в дьяки, что означало серьезный карьерный рост, а впоследствии даже возглавлял Посольский приказ.
Примерно в семь лет Алексей научился играть в шахматы. Игра эта очень соответствовала его спокойному усидчивому характеру. До конца жизни в царском кабинете имелось несколько наборов шахмат, купленных и подаренных, очень дорогих и самых простых.
В девятилетием возрасте царевич начал обучаться церковному пению, которое пришлось ему по душе. Его учителями стали певчие дьяки Лука Иванов, Иван Семенов, Михаил Осипов и Николай Вяземский. Заложенную в детстве любовь к священным песнопениям Алексей Михайлович пронес через всю жизнь, прекрасно знал их и даже поправлял поющих во время церковных служб, увеличил штат царских певчих; при нем в царской библиотеке резко возросло число певческих рукописей с «крюковой» записью мелодии.
Наследник престола проявил потрясающие способности к учению. Он очень быстро выучил наизусть те части часослова и Псалтыри, которые полагалось знать на память, и перешел к чтению Деяний апостольских. Образовательному циклу свободных наук, общепринятому в Европе и включающему грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку, астрологию, царевича, увы, не обучали. Августин Мейерберг, говоря об образовании царских детей, очень сожалел, что блестящие врожденные дарования Алексея Михайловича не получили в детстве развития через «семь свободных художеств». Главная задача его учителей была не в расширении кругозора и познаний высочайшего ученика, а в привитии ему «благочестия», а уж это им удалось в полной мере.
Примерно к десяти годам у Алексея Михайловича уже составилась своя библиотечка из тринадцати томов. В нее помимо Евангелия, часослова, Псалтыри, Деяний апостолов, Октоиха, Стихираря и другой певческой и церковно-учительной литературы входили «Тестамент», содержащий поучения византийского императора Василия сыну Льву, изданные в Литве «Лексикон» и «Грамматика», а также «Космография». В одном ряду с обучающими книжками стояли «немецкие гравированные листы», которых было приобретено множество в Овощном ряду по указанию Бориса Ивановича Морозова. Так, известно, что В. И. Стрешнев неоднократно покупал «немецкие печатные листы», а также «листы писаные немецкие и русские»; к примеру, в январе 1635 года он купил их 32 штуки. Эти гравюры и картинки носили в основном не развлекательный, а познавательный характер, а потому широко использовались при обучении царевича.
В целом Алексей Михайлович получил хорошее образование - не по европейским, а по русским меркам. В его библиотеке были также естественно-научные печатные издания и рукописи и труды по военному делу. Он знал и цитировал изречения философов: «А Аристотель пишет ко всем государем, велит выбирать такова человека, который бы государя своего к людям примирял, а не озлоблял!» Иногда он демонстрировал свои познания в античной мифологии: «…имай крепко опасенье и Аргусовы очи по всяк час беспрестанно в осторожности пребывай…» Государь, не чуждый творчества, одному из своих корреспондентов даже написал нечто отдаленно похожее на силлабические вирши:
Рабе Божий! Дерзай о имени Божии
И уповай всем сердцем: подаст Бог победу!
И любовь и совет великой имей с Брюховецким,
И себя и людей Божиих и наших береги крепко…
Видимо, методы обучения и стиль поведения Б. И. Морозова импонировали его воспитаннику - настолько, что когда он вырос и стал царем, то сделал «дядьку» своим советником теперь уже в государственных делах, на первых порах - с широчайшими полномочиями: Морозов «приказывал государевым словом», то есть давал указания от имени царя. Когда же во время Соляного бунта 1648 года восставшие москвичи, возмущенные злоупотреблениями Морозова, потребовали его казни, царь отмолил своего учителя и на какое-то время выслал его из города, тем самым спас «дядьке» жизнь…
Своих сыновей Алексей Михайлович не обряжал для потехи в немецкое платье и даже запретил его для своих придворных в 1675 году с мотивировкой: «..дабы иноземных извычаев не перенимали» (правда, сам в украшениях и аксессуарах следовал королевской моде - заказывал в Европе кружева, нитяные перчатки и чулки и т. п.).
Придавая огромное значение обучению старшего сына, наследника престола Алексея Алексеевича, отец выбирал ему в воспитатели и учителя только людей добрых и, с его точки зрения, ученейших. Сначала школьные азы царевичу преподавал Алексей Тимофеевич Лихачев, широко известный даже иностранцам как «человек доброй совести». В 1664 году, когда царевичу было уже десять лет и он получил начальное образование, Алексей Михайлович выбрал в качестве второго «дядьки» своего лучшего друга и единомышленника Федора Михайловича Ртищева - тот был освобожден от всех должностей (главы Дворцового, Литовского и Лифляндских дел приказов), чтобы сосредоточиться на обучении и воспитании будущего царя. За шесть лет, отданные служению благородному делу формирования личности нового русского монарха, Ртищев так сильно привязался к своему подопечному, что после неожиданной смерти того в 1670 году впал в депрессию, удалился от двора и замкнулся в себе.
Царевича учили с учетом передовых достижений европейской педагогической мысли. Уже была известна теория Яна Амоса Коменского, увязывавшая формы обучения с возрастом ребенка и развитием его психики. Примерно в эти же годы Епифанием Славинецким был сделан перевод с польского издания 1538 года пособия Эразма Роттердамского De civilitate morumpuerilium («О воспитанности нравов детских»). И хотя книжица эта касалась исключительно этики и гигиены, появление ее знаменательно. Видимо, Алексей Михайлович хотел воспитать своих детей не только по-русски религиозными, но и по-европейски культурными.
Иностранцы давно возмущались манерой поведения русских на людях, в особенности за столом. А поскольку царевич в дальнейшем мог не только стать русским государем, но и польским королем (русское правительство об этом всерьез подумывало в связи с «безкрулевьем» в Речи Посполитой 1668–1669 годов), умение вести себя в соответствии с западным этикетом могло сослужить ему хорошую службу при баллотировании на польский престол. Во всяком случае, впервые в русской традиции воспитания появились правила хорошего тона. Книга была составлена по типу катехизиса - содержала 164 вопроса и ответа: о правилах поведения в церкви и училище, за обеденным столом, в гостях; об умении вести беседу и ношении одежды, об осанке, мимике и жестах при общении; о поведении во время игр; о гигиене тела, правильном сне и пр. Примечательно, что большинство этих норм остаются общепринятыми и в наше время. Занимательность изложения, рассчитанная на детей, сделала эту книгу самой популярной в Европе, в России же ее знали немногие. Переводчик назвал ее «Гражданство обычаев детских», поясняя, что термин «гражданство» подразумевает «обычаев добросклонность и человекопочтительство». В виршах, помещенных в предисловии, говорилось о трех составляющих воспитания - добродетели, мудрости и благонравии. Вполне вероятно, что царевич Алексей, а потом и царевич Федор держали эту книгу в руках или слушали ее в изложении своих учителей. Знаменитое «Юности честное зерцало» 1717 года во многом основывалось на этом же сочинении.
Круг занятий юного Алексея можно представить по тематике книг в его библиотеке, картинкам на стенах его комнат. Известно, что в его покоях были развешаны 50 гравюр на познавательные темы, 14 географических карт, стояли два глобуса. Библиотека внушительных размеров (более двухсот томов) включала много исторических произведений. Русскую историю мальчик изучал сначала по миниатюрам обширного Лицевого летописного свода - например, поход князя Игоря Новгород-Северского на половцев в 1185 году он мог детально представить себе, разглядывая 180 картинок, посвященных ему, - затем переходил к чтению летописей. Мировую историю царевич осваивал по Библии, впервые изданной в России в полном объеме в 1663 году. Из 169 глав хронографа (в редакции 1617 года) он мог почерпнуть сведения об истории Древней Греции, Троянской войне и античной мифологии, о возникновении Польского и Чешского государств, об открытии Америки и многом другом.
Исторический цикл дополнялся географическими знаниями, а также природоведением, начатками юриспруденции, философии, поэтики и риторики. Особо выделялись учебники по военному делу, так как царевича готовили и к роли полководца. Еще в 1649 году по распоряжению государя была опубликована первая светская книга «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» - перевод строевого устава «Воинское искусство», написанного датским капитаном Иоганном Якоби фон Вальхаузеном. Новые рейтарские полки «иноземного строя», созданные в России под командованием иностранных офицеров, нуждались в практических руководствах. И хотя устав был слишком сложным для применения на практике, он содержал массу сведений по военному делу. Царевичи наверняка читали эту книгу, рассматривали 35 гравированных рисунков, пояснявших текст.
Отдельный блок образовательных дисциплин составляли иностранные языки. Трудно переоценить роль Симеона Полоцкого в обучении царевича Алексея. Обладавший широчайшим кругом познаний просветитель стремился поднять образовательный уровень своего подопечного, занимаясь с ним иностранными языками - латынью и польским. Возможно также, что он учил царевича стихотворству, поскольку сам прославился сочинением виршей как на русском, так и на польском языке. Своеобразный экзамен царевич Алексей блестяще выдержал в 1667 году во время приема польских великих и полномочных послов, приехавших ратифицировать мирный договор. Ему тогда исполнилось 13 лет, и он еще совсем недавно был «объявлен» наследником. Царевич произнес приветственную речь частью по-польски, частью на латыни. Основным ее содержанием был призыв к объединению братских славянских народов не только против внешнего врага - «варваров-татар», но и для лучшего внутреннего управления двух народов: «Сколь великая слава, о послы, предстояла бы всем славянским народам, и какие бы великие предприятия увенчались успехом через соединение сих племен и через употребление единого наречия, распространенного в лучшей части Вселенной - вам самим о том известно». Далее царевич прямо говорил, что поляки не пожалеют, если выберут его своим королем: «Собственно же о себе скажу, что если желания и старания мои будут с Божиею помощию приняты благосклонно народом вашим, никогда не дам вам повода раскаиваться в доброжелательстве вашем ко мне».
Уровень его познаний произвел сильное впечатление на послов. Отзвуки этой красноречивой орации достигли даже Италии, причем в письме к герцогу Козимо Медичи польский автор утверждал, что русский наследник владеет латинской риторикой не хуже герцогского сына. Можно представить, какой уровень образования имел Алексей Алексеевич к шестнадцати годам, какая слава ждала его как просвещенного монарха не только в России, но и в Европе! Беда пришла нежданно - в январе 1670 года царевич внезапно скончался…
Оправившись от удара, Алексей Михайлович возложил свои надежды на второго сына Федора, хотя и больного, но весьма разумного и способного к наукам. Его, по-видимому, тоже стали обучать польскому и латыни с теми же видами на польский престол. Правда, документальных подтверждений этому не найдено, кроме письма 1672 года, в котором автор, местоблюститель Киевской митрополии архиепископ Лазарь Баранович, сообщал Алексею Михайловичу о желании посвятить царевичу Федору свою стихотворную книгу «Жития святых отец», написанную на польском языке.
«Потешные» книги с детства имелись у Федора в изобилии. В его хоромах находилась Учительная палата, где книгописцы переписывали их, для чего, к примеру, в 1674 году было закуплено 50 кистей и столько же горшочков краски. В 1670 году девятилетнему царевичу была подарена красочная книга «Лекарство душевное» с многочисленными иллюстрациями, изготовленными иконописцами Троице-Сергиева монастыря золотом и красками «самым добрым мастерством». Там были сценки разнообразного содержания, например сенокоса или мытья в бане. В 1672 году иконописец Петр Афанасьев оформил для царевича две «потешные» книги на военную тему - «люди с боем»; в 1674-м другой мастер, Никифор Бовыкин, изготовил «потешную игру карты по золоту цветными красками» (лото с картинками на разные темы). Этот перечень можно продолжить.
С 1668 года Федора опекали и воспитывали «дядьки» - боярин князь Федор Федорович Куракин и думный дворянин Иван Богданович Хитрово, люди ничем особенно не выдающиеся, но близкие к царю. О их взаимоотношениях с царевичем сказать что-либо трудно. Зато о его отношении к Симеону Полоцкому красноречиво свидетельствует тот факт, что после смерти учителя в 1680 году Федор Алексеевич, тогда уже царь, приказал увековечить его память достойной стихотворной эпитафией, поручив это сложное дело другому преданнейшему ученику Симеона Сильвестру Медведеву. Федор отверг 14 (!) вариантов - ему всё время казалось, что в надгробных виршах плохо отражены величие Симеона как мудрого наставника и советника, значимость как просветителя русского народа, красноречивого поэта и «дидаскала», а также его скромность и кротость как истинного монаха. Медведеву пришлось попотеть, прежде чем 24 двустишия были одобрены венценосным заказчиком и высечены золотыми буквами на двух каменных досках, установленных над гробом Симеона в Заиконоспасском монастыре:
…Им же польза верные люди насаждала,
Незлобие же, тихость, кротость удивляла…
Мудрость со правдою им бысть зело храненна,
Мерность же и мужество опасно блюденна…
В результате стараний «дядек» и учителей Федор был подготовлен к управлению страной ничуть не хуже старшего брата. Много усилий к этому прилагал и государь-отец, передававший сыну азы управления страной, представления о государевом чине, государевой чести и прочих важных вещах. В частности, как явствует из письма царевича отцу, тот научил сына «тарабарщине» (тайнописи). Известно также, что многие умения и навыки, а также увлечения и пристрастия (например, любовь к садоводству и певческому искусству, всегдашнее стремление к красоте) Федор заимствовал от Алексея Михайловича.
Царевен, в отличие от царевичей, не учили управлению государством, но обучали чтению и письму, а иногда и того больше. К примеру, известно, что Софья изучала польский язык и латынь, вместе с Федором осваивала стихосложение под руководством Симеона Полоцкого, и ее успехи как будто были столь велики, что учитель даже показывал ей черновики своих произведений, в частности рукопись книги «Венец веры кафолической». Познания Софьи в барочной поэтике, ее пристрастие к аллегорическому мышлению, а главное - стремление превзойти братьев в науках и искусствах несомненны.
Петру, сыну Алексея Михайловича от второго брака, не повезло с образованием в силу того, что отец умер, когда мальчику было всего четыре года, и этими вопросами просто некому было заниматься. Как и было положено, «дядька» Никита Моисеевич Зотов обучил мальчика читать по Псалтыри и часослову. А вот писал Петр всю жизнь неграмотно… Зато он перенял у Зотова любовь к народным пословицам и поговоркам, а также к резьбе по дереву. В четыре года Петруша получил, если можно так выразиться, судьбоносный подарок - немецкий серебряный кораблик. Как знать - возможно, именно с того момента Петр начал бредить морем.
Из книги Быт и нравы царской России автора Анишкин В. Г. Из книги 100 великих археологических открытий автора Низовский Андрей Юрьевич Из книги Женщины Викторианской Англии. От идеала до порока автора Коути КэтринВоспитание, обучение и просвещение В Древней Руси физическое развитие молодого человека, как правило, не соответствовало его духовному развитию, так как он вступал в общество сразу «из детства». По Соловьеву, он входил в общество «нравственным недоноском».Соловьев
Из книги Тайны парижских манекенщиц [сборник] автора ФреддиВоспитание и обучение царевича Петр I не заботился о воспитании внука и делал это умышленно, так как не видел в нем наследника. Матери Петр лишился, когда был еще несмышленым ребенком, и он остался под надзором няньки, немки Роо.Малолетний Петр, судя по всему, подавал
Из книги Тибет: сияние пустоты автора Молодцова Елена Николаевна Из книги Два лица Востока [Впечатления и размышления от одиннадцати лет работы в Китае и семи лет в Японии] автора Из книги автораОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ Чтение вслух, чтение про себя, возможность удерживать в памяти целые библиотеки слов - каким-то образом мы овладеваем этими способностями. Но прежде, еще до того, читатель должен научиться распознавать знаки, с помощью которых принято общаться в его
Древние века
- В древности ребенка легко могли убить из-за физического недостатка или из опасений, что ребенка будет трудно прокормить. Родители чаще оставляли в живых мальчиков, чем девочек.
- Детей часто приносили в жертву богам. Такой обычай существовал у многих народов: ирландских кельтов, галлов, скандинавов, египтян, и др. Даже в Риме, оплоте цивилизованного мира, детские жертвоприношения полулегально существовали.
- Умерщвление детей считалось нормой вплоть до четвертого века нашей эры. Лишь 374 г. н.э. стараниями церкви был принят закон, осуждающий убийство детей. Тем не менее, убийство незаконных детей было обычным делом вплоть до девятнадцатого века.
- Чтобы сделать детей послушными, взрослые пугали их всякого рода страшилищами. Большинство древних соглашалось, что было бы хорошо постоянно держать перед детьми изображения ночных демонов и ведьм, всегда готовых их украсть, съесть, разорвать на куски.
IV-XIII века
Нормальным считалось отказаться от ребенка, отправить его к кормилице, в монастырь или в заведение для маленьких детей, в дом другого знатного рода в качестве слуги или заложника. В другую семью ребенка могли продать, он был обычным товаром. Дома к ребенку относились как ко взрослому человеку, сразу нагружали его работой. С трех лет он мог работать на огороде или в доме наравне с другими взрослыми.
- Традиция отдавать детей была столь сильна, что существовала в Англии и в Америке до восемнадцатого века, во Франции - до девятнадцатого, в Германии - до двадцатого. В 1780 г. глава парижской полиции дает такие ориентировочные цифры: каждый год в городе рождается 21000 детей, из них 17000 посылают в деревни кормилицам, 2000 или 3000 отправляют в дома для младенцев, 700 вынянчиваются кормилицами в доме родителей, и лишь 700 кормят грудью матери.
- Дети всегда и везде плохо питались. Даже в богатых семьях считалось, что рацион детей, особенно девочек, должен быть очень скудным, а мясо лучше давать в очень небольших количествах или не давать вовсе.
- Со времен Рима мальчики и девочки всегда прислуживали родителям за столом, а в средние века все дети, за исключением разве что Членов королевской семьи, использовались как слуги. Лишь в девятнадцатом веке использование детского труда стало предметом обсуждения.
- В средневековье детей часто выводили всем классом из школы, чтобы они посмотрели на повешение, родители также часто брали детей на это зрелище. Считалось, что вид казней и трупов полезен для воспитания детей.
- Роль «пугала» для детей в это время брала на себя церковь.
XIV-XVII века
Ребенку уже позволено влиться в эмоциональную жизнь родителей. однако главная задача родителей - «отлить» его в «форму», «выковать». У философов от Доминичи до Локка самой популярной метафорой было сравнение детей с мягким воском, гипсом, глиной, которым надо придать форму. Появилось много руководств по воспитанию детей, распространился культ Марии и младенца Иисуса. а в искусстве стал популярным «образ заботливой матери».
- До восемнадцатого века очень большой процент детей регулярно били. Орудиями битья были разнообразные кнуты и хлысты, палки и многое другое. Даже принадлежность к королевской семье не освобождала от побоев.
- Только в эпоху Возрождения стали всерьез поговаривать, что детей не следует бить так жестоко, и то люди, говорившие это, обычно соглашались с необходимостью битья в разумных пределах.
- До восемнадцатого века детей не приучали ходить на горшок, а ставили им вместо этого клизмы и свечи, давали слабительное и рвотное, независимо от того, были ли они здоровы или больны. Считалось, что в кишечнике детей таится нечто дерзкое, злобное и непокорное по отношению ко взрослым. То, что испражнения ребенка плохо пахли и выглядели, означало, что на самом деле где-то в глубине он плохо относится к окружающим.
XVIII век
Родители стараются обрести власть над его умом и уже посредством этой власти контролировать его внутреннее состояние, гнев, потребности, мастурбацию, даже саму его волю. Когда ребенок воспитывался такими родителями, его нянчила родная мать; он не подвергался пеленанию и постоянным клизмам; его рано приучали ходить в туалет; не заставляли, а уговаривали; били иногда, но не систематически; наказывали за мастурбацию; повиноваться заставляли часто с помощью слов, а не только угрозами. Некоторым педиатрам удавалось добиться общего улучшения заботы родителей о детях и, как следствие, снижения детской смертности, что положило основу демографическим изменениям XVIII века.
- Попытки ограничить телесные наказания для детей делались и в семнадцатом веке, но самые крупные сдвиги произошли в восемнадцатом столетии. В девятнадцатом веке старомодные порки начали терять популярность в большей части Европы и Америки. Наиболее затяжным этот процесс оказался в Германии, где до сих пор 80% родителей признаются, что бьют своих детей.
- Когда церковь перестала возглавлять кампанию по запугиванию, появились новые страшные персонажи: приведения, вервольфы и др. Традиции запугивания детей стали подвергаться нападкам лишь в девятнадцатом веке.
- Почти всемирным обычаем было ограничение свободы движений ребенка различными приспособлениями. Важнейшей стороной жизни ребенка в его ранние годы было пеленание.Как показали последние медицинские исследования, спеленутые дети крайне пассивны, сердцебиение замедленно, кричат они меньше, спят гораздо больше, и в целом настолько тихи и вялы, что доставляют родителям очень мало хлопот.
- Когда ребенок выходил из пеленочного возраста, к нему применяли другие способы ограничения подвижности, в каждой стране и для каждой эпохи свои. Иногда детей привязывали к стульям, чтобы они не могли ползать. До девятнадцатого века к одежде ребенка привязывали помочи, чтобы лучше следить за ним и направлять в нужную сторону.
Адриан Старший Колларт. «Библейский сюжет» по рисунку М. Де Васа. Нидерланды, середина XVI в. Резцовая гравюра.
 Не каждому художнику для творческого процесса требуются кисти и краски. Некоторым достаточно иметь металлическую пластину и пару инструментов. Такие приспособления нужны для создания гравюр. Этот вид искусства был очень популярен в Cредние века, сейчас авторов-граверов не так много, отчего картины, созданные в подобной технике, не становятся менее интересны.
Не каждому художнику для творческого процесса требуются кисти и краски. Некоторым достаточно иметь металлическую пластину и пару инструментов. Такие приспособления нужны для создания гравюр. Этот вид искусства был очень популярен в Cредние века, сейчас авторов-граверов не так много, отчего картины, созданные в подобной технике, не становятся менее интересны.
У северян есть уникальная возможность познакомиться с гравюрами, выполненными западноевропейскими мастерами XVI - XIX веков: в областном художественном музее открылась выставка «Радость постижения бытия». Экспонаты предоставлены московским коллекционером Владимиром Беликовым.
- Владимир Гурьевич - давний друг музея, и нынешняя выставка стала не первым совместным проектом. В 2015 году жители Заполярья могли видеть серию гравюр на военные темы «Трагедия утрат и величие Победы», в 2016-м - «Образы Вечной книги», посвященную библейским сюжетам, - сказал на открытии экспозиции председатель регио-
нального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов. - Эти дружественные отношения достигли того уровня, что коллекционер предоставил нам такое количество экспонатов, которое позволило открыть выставку не только в Мурманске, но и в Североморске. А значит, намного больше северян могут познакомиться с этими удивительными картинами. Кроме того, в следующем году Россия вступает в Десятилетие детства, поэтому экспозиция, посвященная жизни мальчишек и девчонок, весьма кстати. Автор передает нам свой посыл: детство надо беречь, ведь это самое прекрасное, что у нас есть.
В областном художественном музее можно увидеть около 50 произведений. Гравюры, созданные в Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии и Испании, объединяют темы
детства, семьи, игры. Посетители наверняка оценят красоту гравюры, ее уникальный художественный язык.
- Выставку можно охарактеризовать как неспешную. Сюжеты, которые мы видим, завораживают. Так же, как и техника художников, - взяла слово директор областного художественного музея Ольга Евтюкова. - Мы видим самых разных детей: пастушков, ребят с обездоленной судьбой, аристократов… И пусть прошло уже несколько веков, увлечения у юного поколения не меняются. Они все так же любят играть и шалить.
Тематика сюжетов, созданных на картинах, с течением времени менялась. Так, для XV века характерны в основном картины на библейские темы, двумя веками позже на первый план выходят бытовые зарисовки.

- В XVI веке искусство художественного оттиска получило широкое признание, в Европе гравюра была возведена в ранг высокого искусства, - прокомментировала старший научный сотрудник отдела фондов музея Ольга Заозерская. - Первые гравюры отличались более резкими линиями, ребенок был вписан в библейский сюжет. В XVII веке линии становятся более плавными, тягучими, а изображения детей вписываются в бытовые сюжеты. Например, на одной из картин мы видим застолье, в котором участвуют бабушка и внук.
Или вот мальчишка в шляпе гонит палкой коров и коз, неподалеку взрослые занимаются тем же - это картина «Апрель». Вот ребята качаются на качелях, а на другой картине малыши открывают ворота. Как и положено, одна девочка повисла на деревянной планке и катается. Согласитесь, мы и сами в детстве такое вытворяли, да и сейчас подобное можно увидеть в любой деревне.

Вообще XVII век стал золотым временем развития гравюры и офорта. Список жанров, в которых работали художники, все расширялся: портреты, пейзажи, пасторали, батальные сцены, натюрморты, изображения животных и обитателей морских глубин.
Примерно в это же время гравюра перестала быть черно-белой, на картинах появились другие цвета. Что любопытно, если не знать, что перед нами именно гравюра, цветной офорт на первый взгляд запросто можно принять за акварель.
Описать все разнообразие работ мастеров невозможно. Владимир Беликов начал собирать свою коллекцию от образцов из изданий Петровской эпохи и золотого века французской иллюстрации XVIII века до современных произведений более 30 лет назад. Работы накапливались, источниками служили покупки за рубежом, дары знакомых художников. Сейчас в коллекции более 15 тысяч арт-объектов: линогравюры, офорты, ксилографии, книжные миниатюры, самые ранние из которых датируются XV веком. Комбинации работ составили около 300 абсолютно разных по концепции экспозиций.
В областном художественном музее выставка будет работать до 29 октября. Экспозиция, разместившаяся в Североморском музейно-выставочном комплексе, пробудет там до 28 сентября, а затем переедет в ЗАТО Александровск.